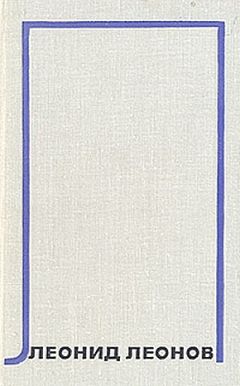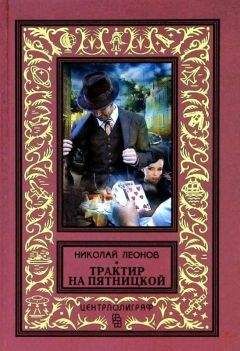— Я только и расслышал, что Хан, — громко сказал Митрий. — Подходяще окрестили.
— Хан, говоришь? — переспросил Савелий. — Старый, совсем глухой стал.
Корней нарушил главную воровскую заповедь: о делах друг друга не говорить, о мокрых даже не помнить. Корней выдал Хана с потрохами. Митрий открыто выразил свое неодобрение, Савелий поддержал его, Кабан же ничего не понял, да и разговаривать ему в таком обществе было не положено.
— Не расслышали потому, что сказано ничего не было, — Корней свое сделал, теперь можно в благородство поиграть.
Хан пустыми глазами обвел собравшихся, слова не сказал, бровью не повел. Даше не было жалко черномазого, как она про себя называла Хана, она встала, кивнула и ушла в малую горницу. Стоя у окна и выводя узоры по пыльному стеклу, она думала, что теперь черномазый обречен. Корней с ним сейф вспорет, деньги заберет и наведет уголовку на содельника. Вон сколько человек знало, что Хан сотрудника угро убил, кто шепнул, поди разберись. Даша вспомнила Толика Щеголя — ее первый дружок на воле. Веселый, бесшабашный и щедрый Толик мог у одного украсть, другому отдать, дружбу воровскую ценил больше жизни. Даша поверила, что есть такие люди на земле, от всего свободные, у кого лишнее взял, кому захотел — подарил. Толик не отдал местному пахану долю, и мальчишку зарезали. Лишили жизни без суда присяжных, революционной тройки или народных заседателей. Позже выяснилось, что деньги он передал через дружка, который с ними из Ростова мотанул на юг.
Воровской закон не любит бюрократии, сказал, как отрезал, сильный у слабого, подлый у наивного. Долог был путь Даши Паненки к Корнею — корню воровского сообщества, много она повидала, пока шла по нему. И пришла, тут карты не крапят, нож в рукаве не прячут, все в открытую.
Глупый Костя, говорит о загнанных жизнью людях… Всех, всех к ногтю и ее, Паненку, не люди они…
Даша открыла сумочку, вынула платок и наткнулась на какую-то бумажку, развернула машинально и прочла:
«Даша, здравствуй. Спасибо за звонок. Не делай никаких глупостей — не озлобляйся, каждый человек — человек, мы помним об этом. Рядом с тобой все время будет мой друг, он тебя обережет. Не гадай, не ищи его, можешь помешать. Я люблю тебя.
Сотрудник уголовного розыска, большевик Константин Воронцов».
Даша перечитала трижды, прежде чем поняла окончательно. Внутрь запало только: «люблю» и «рядом с тобой мой друг». Она было рванулась к двери, взглянуть на этих, за столом, но вовремя остановилась. «Не гадай, не ищи, можешь помешать».
Кто же положил записку?.. Даша сложила ее вчетверо, хотела спрятать на груди, затем стала рвать. Она отрывала от бумажки по капелюшечке, пока на ладони не выросла маленькая пушистая горка.
Кто же, кто? Даша научилась держать себя в руках, контролировать поступки и слова. Слова, но не мысли. Кто же здесь свой?
Глава двенадцатая
Переступить порог
Костя Воронцов занимался политграмотой с постовыми милиционерами и сейчас вместо того, чтобы думать о вечерней операции, составлял коротенький конспект. Занятия должны начаться через час, на двенадцать Воронцова вызвал сам Волохов, и, просматривая газеты за неделю, Костя решал, как отстоять свою позицию перед начальством. Воровская сходка назначена на восемь. «Восстание арабов против англичан, — записывал в блокнот Воронцов. — На границе Ирака столкновение между английскими военными силами и отрядами арабских повстанцев». Если даже Волохов согласится, то сразу спросит: а как на сходку пройти?
Костя выдвинул один ящик стола, другой, атлас с картами исчез бесследно. Где этот Ирак, черт бы его подрал! Костя с тоской подумал, что дотошные милиционеры пришпилят к стене политическую карту, а он в ней… Надо найти провожатого, одному не пробраться.
«Англичане, богатые сволочи, пустили в ход аэропланы и бронированные автомобили».
«Бесчинства фашистов в Риме». Кто такие? «Расспросить Клименко, — записал Костя. — Муссолини легко ранен в нос, покушалась англичанка Гипсон. Муссолини там главный, а кто такая Гипсон? Узнать у Клименки. Италия внизу Европы — сапогом».
«В Лиге Наций — вопрос о разоружении. Везде стреляют, а они совещаются. Вот и я на сходке поставлю вопрос о разоружении…»
Костя отодвинул подшивку газет, вспомнил — на последнем занятии просили сообщить цифры о потерях во время мировой войны. Где-то есть, Костя начал листать блокнот, нашел неразборчивые каракули, стал переписывать.
«Россия потеряла 1 млн. 700 тыс., Германия — 1 млн. 770 тыс., Америка — 50 тыс… Всего за пятьдесят месяцев 8 млн. человек прикончили».
«Напились кровушки буржуи, больше мы им не позволим, — рассуждал Воронцов, закрывая блокнот, — политики и ребятам хватит, перейду к текущему моменту нашей повседневной жизни. Тут они меня нэпом начнут по башке засаживать. Почему да отчего? За что сражались? Совбур наглеет, опять у них шелка и жратва любая, а у нас пайка, только чтобы не помереть».
Печальные размышления Кости прервал Мелентьев, который, как обычно, деликатно постучал и сразу вошел. Сегодня субинспектор был вычищен и отутюжен до ненатуральности. Пенсне и ботинки блестят, хоть «зайчиков» пускай, о складку брюк обрезаться можно, так братишки в Кронштадте утюжили, рубашка белая, аж в голубизну. Хорош Иван, трудяга, честный, дело знает, но не наш он. Костя осуждающе покачал головой и спросил:
— Все ж таки, Иван Иванович, что главное в человеке — душа или тело?
— Я атеист, Константин Николаевич, — Мелентьев белоснежным платком начал протирать зеркальные стекла пенсне.
— Ты мне голову не морочь, дурей глупого не прикидывайся, — умышленно взвинчивая себя, сказал Костя. — Божьей души нет, а нормальная человеческая должна быть.
— Политграмоту поручили Клименко, а наши с вами человеческие души просят на третий этаж, — Мелентьев вынул из жилетного кармана серебряную «луковицу», часы, подаренные ему за безупречную службу еще до Кости Воронцова рождения. — Через семнадцать минут. Я полагаю, Костя, нам следует договориться. Любой начальник не радуется, когда среди подчиненных разнобой. Ему в таком случае решать следует, ответственность на себя брать, а этого ни один человек не любит. — Поддернув стрелки брюк, Мелентьев опустился в кресло.
— Я категорически против облавы, никто меня не убедит, — резко ответил Костя. — Прикажут, буду выполнять.
— Костя, смотри ты проще на наше дело. Взять с поличным — вот высший класс. Захватить сходку, не взять с поличным, большинство выпустим, однако припугнем…
— Я не хочу никого брать с поличным, — перебил Костя. — Хочу, чтобы преступлений не совершали.
— И только? Сынок, сынок, — Мелентьев вздохнул, — я же тебя к старой сыскной работе не тяну. Знаешь, как у нас любимчики работали? Чем преступника больнее ударишь, тем он злее становится. Волна убийств, банки, как грецкие орехи, трескаются. Сыщик нужнее становится, дал результат — повышение и почет.
— Вот и говорю, чужой вы нам, Иван Иванович, хоть науку и понимаете. Мы обязаны из всех темных уголков людей повытаскивать и к жизни нормальной приобщить.
— Ты представляешь, если они все явятся с повинной? — не обращая внимания на злые Костины слова, спросил Мелентьев.
— Без куска хлеба боитесь остаться?
— Никогда, Костя, человек не прекратит совершать преступления, — Мелентьев мельком взглянул на часы. — Пока человек существует, он будет преступать закон. Общество изменится, мораль, законы изменятся, станут преступать через новые. Ошибка твоя заключается в том, что ты чужую работу хочешь делать. Воспитывать должны школы, университеты, книги, искусство и культура в целом. А мы с тобой, — он поднялся, открыл перед Костей дверь и уже в коридоре продолжал: — должны преступников задерживать и предавать суду. Каждый обязан хорошо делать свое дело, быть профессионалом, а не теоретиком и мифоманом.
Они поднялись на третий этаж, секретарша сдвинула выщипанные бровки, ткнула одним пальцем в пишущую машинку.
— Занят, ждите, — начала отыскивать нужную букву.
— Речи, наверное, ловко говорит. А она машинисткой хорошей должна быть. Ты, Костя, зуб рвать к врачу пойдешь или к идейно близкому товарищу? — спросил Мелентьев.
— У меня зубы, — улыбнулся Костя, — хоть на выставку.
— Тебе легче, — Мелентьев закурил и отвернулся.
Начальник отдела по борьбе с бандитизмом Волохов, седой и жилистый, с орденом Красного Знамени на застиранной гимнастерке, выслушал обоих внимательно, ни разу не перебил, смотрел, щурился, будто подмигивал.
Мелентьев был за облаву, Воронцов категорически возражал, считал, что должен идти он, так как из-за двух-трех разыскиваемых, которые окажутся на сходке, озлоблять всех не резон.
— На сходке наверняка будет Сипатый, — сказал Мелентьев. — Возможно, и другие…
![Николай Леонов - Один и без оружия [Трактир на Пятницкой. Агония]](https://cdn.my-library.info/books/143683/143683.jpg)